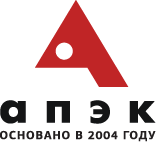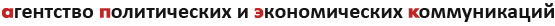Эксперты рассказали, где на губернаторских выборах заметна активность оппозиции
 06.08.2025
06.08.2025
Вторых туров по итогам единого дня голосования нигде не ожидается
Коми, Камчатку, Архангельскую, Иркутскую, Калужскую, Костромскую, Курскую, Свердловскую и Оренбургскую области эксперты отнесли к регионам, где на осенних выборах «протестный потенциал выше среднего». Об этом говорится в докладе Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) «ЕДГ-2025: федеральные тренды, межпартийная конкуренция, электоральная мобилизация». К регионам с «ограниченным протестным потенциалом» авторы относят Чувашию, Краснодарский и Пермские края, Брянскую, Ленинградскую, Новгородскую, Ростовскую, Тамбовскую области, Севастополь и Еврейскую автономную область. К «электорально управляемым» регионам – Татарстан.
К регионам с протестным потенциалом выше среднего относятся территории, где уровень протестного голосования в ходе предыдущих кампаний (прежде всего на выборах в Госдуму в 2021 г.) был выше показателей федерального уровня, наблюдается особая активность оппозиционных игроков или есть факторы, которые потенциально могут приводить к протестной мобилизации, поясняет гендиректор АПЭК Дмитрий Орлов. «Например, регионы, где власть сталкивается с дополнительными вызовами. Как в случае необходимости восстановления инфраструктуры освобожденных районов в Курской области или реагирования на проблемы, с которыми сталкивается промышленность в некоторых индустриальных центрах», – говорит он.
Кампании большинства врио губернаторов проходят в регионах с заметным протестным потенциалом, пишут авторы доклада. Среди таких регионов – Коми, Свердловская, Новгородская, Оренбургская, Курская области и Еврейская автономная область. Также авторы напоминают, что четыре избираемых губернатора занимают свои посты более 10 лет: глава Татарстана Рустам Минниханов – с 2010 г., губернатор Костромской области Сергей Ситников и глава Ленинградской области Александр Дрозденко – с 2012 г., губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев – с 2015 г. На системном оппозиционном фланге выдвижение кандидатов для участия в губернаторских выборах становится фактором привлечения внимания СМИ к ключевым политическим игрокам и мобилизации сторонников в ходе подготовки к выборам в Госдуму 2026 г., говорится в докладе.
Но протестный потенциал выше среднего не означает, что в таких регионах состоится второй тур в ходе губернаторских кампаний, подчеркивает Орлов: «Просто здесь выше вероятность мобилизации протестного электората вокруг оппозиционных игроков. Но оппозиционные партии и кандидаты могут и не воспользоваться такими возможностями в случае ведения ими пассивной кампании, а региональная власть вполне в состоянии перехватить протестную повестку – по крайней мере, частично». Среди федеральных трендов ЕДГ эксперты выделяют следующие – «устойчивое доминирование» «Единой России», конкуренция КПРФ и ЛДПР в медиаповестке не ведет к изменению их электоральных рейтингов, при этом есть некий потенциал роста поддержки «Справедливой России» и «Новых людей», а начальный этап кампаний проходит на фоне низкого уровня общественной тревожности.
Судя по градации регионов, в АПЭК за «протестные» берут те регионы, где могут быть социально-экономические проблемы, полагает политолог Александр Кынев: «Если общая социально-экономическая обстановка ухудшается, люди могут голосовать протестно. Но явка на выборах низкая. Чтобы люди пошли на выборы, нужен кандидат, который бы работал на приход людей на участки. А таких кандидатов нет». Явка может быть выше только в тех субъектах, где несколько уровней выборов – как в Коми, добавляет он: «Там же, где спаренных выборов нет, нет и тех, кто мог бы привести оппозиционный электорат».
Существует электоральная статистика, которая показывает, как выглядит политический ландшафт и политическое поведение в регионах, хотя и активность гражданского общества может иметь влияние на результаты выборов, рассуждает руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин: «Социальное самочувствие граждан, в том числе протестные настроения, может сказаться на итогах выборов, но все же большее значение имеют электоральные мотивации, риторика и стилистика оппозиционных кандидатов – тех, кто может стать выгодополучателями протестных голосов. Если таких выгодополучателей нет, то протестная активность в ходе электоральных процедур себя значительно не проявляет». Вопросы могут быть к тем главам, которые идут не на первый срок, полагает Костин: «У жителей есть позитивные и негативные оценки деятельности – а это может иметь значение для рейтинговых показателей». Вторых туров на нынешних выборах пока не просматривается, сказывается фактор отложенного выбора, хотя результаты у кандидатов будут ниже, чем последние несколько лет, заключает Костин.